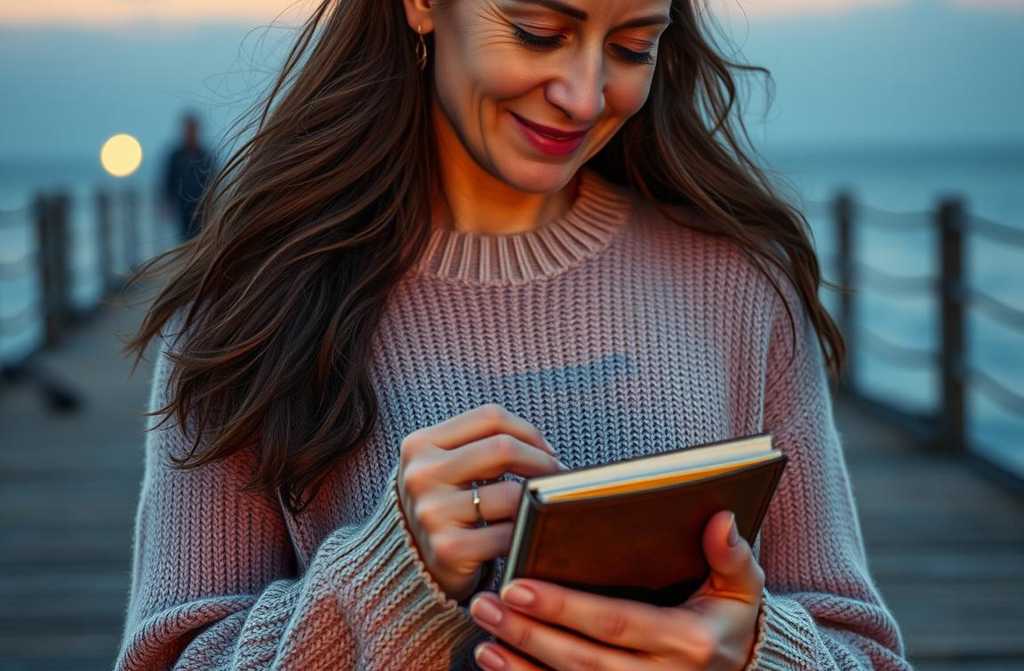Муж, Иван, пошёл в магазин за хлебом и уже не вернулся. На столе остался недопитый чай в кружке, телефон, который ещё заряжался от розетки, и его привычное «через минутку», которое всегда означало пятнадцать минут.
Я ждала, как будто стою в очереди к лифту, который едет с верхнего этажа: немного напрягаясь, но без паники. Десять минут, тридцать, час. Третьий раз позвонила ему, и телефон вдруг зазвонил в прихожей.
Сразу бросилась в магазин. Продавщица, Мария Петровна, вспомнила его синюю куртку и то, как он отложил буханку в сторону, сказав, что «забыл кошелёк». Вышла на тротуар с пустыми руками и странным ощущением, будто чтото сделала не так, хотя и понятия не имела, что именно.
Дальше всё стало всё хуже: полицейский участок, «подожди, пожалуйста», бумажки, которые нужно заполнить, фото для соцсетей, номер заявления. В тот же вечер я поставила воду на макароны и впервые в жизни не смогла съесть ужин в одиночку.
Дни, месяцы, годы шли. Я училась жить, как соседка, которая живёт в той же квартире, но пользуется вещами посвоему. Оставила его зубную щётку в кружке, хоть паста давно высохла. Положила его зимние ботинки в коробку, но не подписала их именем. Надеялась, стыдноупорная надежда, что однажды звоник снова зазвенит и я услышу его «я уже здесь». Эта надежда прорвалась в меня, как прорубь в льду.
Через три года я перестала рефлекторно оборачиваться на улице. Через пять поняла, что «пропавший» это не временное состояние, а способ бытия, в котором живут и ушедшие, и оставшиеся. Через восемь начала упаковывать коробки: вещи, которыми не пользуюсь, те, которые уже не хочу использовать, и те, которые вообще не стоит трогать, если я действительно хочу идти дальше.
И тут пришла маленькая, неприметная посылка. Пузырчатый конверт без отправителя, только мой адрес, без фамилии. Внутри тонкая клетчатая тетрадка, как школьная, и ключ на металлическом кольце с номером «12». На первой странице тетрадки было моё имя, написанное его почерком: наклонная «А» и протянутое «л». Под ним: «Если читаешь значит, я не успел вернуться».
Сидела за кухонным столом и читала, будто открываю книгу с середины, потому что нет сил начинать с начала. Тетрадка была скромной и правдивой без громких фраз, с датами, которые прыгали, как камни по реке. Первый записанный день: «Тот день с хлебом. Не мог дышать. Остановился перед светофором и подумал: как тебе это объяснить?». Затем шли громоздкие, нервные строчки о долге, в который я втянулся, «чтобы к концу года было легче», о человеке, который «начал приходить к дому», о стыде, который растёт, когда не можешь сказать правду. «Знал, что если вернусь, всё бросу на тебя. Сел в первый автобус. На море, подальше».
Через несколько недель: «Думал, что вернусь, когда отработаю. Но меня узнала женщина, которая увидела твоё фото у пирса летом. Спросила, всё ли у меня в порядке. Я соврал. А потом стал тем, кто нужен её сыну. Мы вытаскивали мальчика из воды. Осталcя не из любви, а из страха: если вернусь, всё разрушу. Ты скажешь, что я сбежал. Ты права. Я сбежал». Тетрадка не давала утешения. В ней нет «люблю тебя, прости» и «вернусь в определённый день». Там извинения, как царапины на стекле: видны, но не отполировать. Был адрес маленькой прибрежной деревни на Чёрном море и название хостела, где «до конца лета помогу с кроватями, потом с лодками». И строка, под которой я застряла пальцем: «Если захочешь ключ от шкафчика в гавани. 12. Там я переждал бури».
Поехала. Ехала, как будто хочу перемотать фильм к сцене, где всё иначе. В поселке пахло рыбой и смолой. Нашла гавань и ту низкую деревянную коробку с потускневшим номером. Ключ подошёл. Внутри мелочи: тонкая дождевка, старый швейцар, фото мальчика с бумажным флагом в руке. И конверт с фамилией «Алина» моё имя, как он говорил.
Внутри короткое, слегка торопливое письмо: «Алина, хотел вернуться. Каждый день придумывал, как всё сказать, чтобы ты не ненавидела меня. Но я трус. Не смог подойти к двери с пустыми руками и признаться, что натворил глупости. Осталcя, потому что ктото меня нужен, а ты ты умеешь справляться сама, лучше меня. Прости. Если приедешь, зайди к барышне в кафе у Ирины. Она всё расскажет. Я, наверное, уже не успею».
Барышня в кафе «У Ирины» была тем же человеком с фотографии. Узнала её по волосам, собранным резинкой, и тонкой банделе с синим бусинкой. При виде меня она замерла, будто ктото пришёл из сказки, в которую никто больше не верит. Сели мы на металлические стулья, ножки которых скрипели по плитке.
Знала его как «Янка», начала она, пока я ещё пыталась собрать мысли. Пришёл помогать. Сначала кровати, потом лодки. Был тихим. Не пил. Не спрашивал, а слушал. Улыбнулась печально. Не был моим мужчиной. Был тем, кто спас моего сына, когда волна снесла его с причала. Осталcя, потому что думал, что наконец полезен.
Я не спрашивала о чувствах. Не хотела знать, спали ли они вместе. Хотела понять, почему он не позвонил, хотя имел мой номер и слышал мой голос.
Я звонила один раз, сказала она спустя мгновение. С его телефона. Не ответила. Я тогда была на дежурстве, компьютер выключился, весь день бегала по этажам. В журнале звонков было двадцать номеров, ни одного без записи.
И что дальше? спросила я.
Потом заболел, ответила она. Сначала просто переутомление, потом всё хуже. Подняла глаза. Просил, чтобы я не звонила, пока не соберётся прийти сам. Сказал, что если уже заставил когото стыдиться, то хотя бы вернётся на своих ногах.
Правдива ли она? Защищала ли он свой образ в моих глазах? Или просто спасала себя? Мне казалось, что мои вопросы крошатся, как сухой хлеб в супе в крошки, которые можно проглотить лишь тихо.
У гавани, рядом с шкафчиком 12, висело объявление о погибших рыбаках: имена, покровитель, дата мессы. Его имени там не было. «Янка» тоже. Может, и так лучше. Может, и хуже. Может, это дало мне право решить, умирает ли он в моей истории или просто исчезает.
Закат расколол воду пополам. Села на причал и впервые за годы почувствовала, что могу дышать полной грудью, хотя воздуха не стало больше. Вытащила тетрадку, провела пальцем букву «А». С дальних берегов донёсся детский смех может того мальчика с фотографии, а может совсем другого, который ничего о нас не знает.
Вернулась домой с ключом в кармане и нотой с номером Ирины, которую уже не собиралась терять. Положила тетрадку на стол рядом с пустой кружкой. На мгновение захотела сжечь её на балконном гриле, как сжигают письма после отпуска, чтобы они не искушали. Вместо этого спрятала в чайную банку, туда же складываю «не сейчас» вещи.
Знаю я теперь, почему он не вернулся? Знаю столько, сколько нужно, чтобы каждая версия была возможна. Что был долг и стыд. Что была гавань и мальчик, которого вытаскивали из воды. Что он был трусом, который не смог ступить в дверь. И что в нём была какаято отголоска мужества запоздалого, но всё же оставить мне ключ и слова, а не исчезнуть без следа.
Не знаю, что с этим делать. Могу поехать ещё раз и спросить о вещах, которые для одних очевидны, а для других невыносимы. Могу писать тем, чьи имена в объявлении, искать несоответствия. А могу просто закрыть банку, поставить её на полку и научиться жить с тем, что не все вопросы получают ответы.
Возможно, это была измена не в постели, а в решении не возвращаться. А может, попытка спасения, неумелая и болезненная, но единственная. То, что он оставил, не только письмо и ключ. Он дал мне выбор, как рассказать его отсутствие: как обиду, как побег, как рассказ о чьёмто страхе и чьёмто спасении.
Каждый раз, когда иду за хлебом, задерживаюсь у полки с батонами чуть дольше, чем нужно. Иногда покупаю два. Один несу домой, второй оставляю на скамейке в парке. Не потому, что верю в знамения, а потому, что хочу помнить, что одни дороги можно вернуть, а другие нет. Какая из них была нашей? Не уверена. И, пожалуй, поэтому всё ещё ношу этот ключ в кармане.